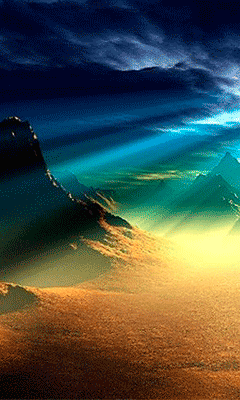На дне
Нет, наверное, ничего более обычного, чем метафора пути в размышлениях о жизни и о судьбе. У пути и у рассказа есть начало, есть конец… Потому, видимо, необходимость повествовать о себе зачастую склоняет автора изображать все пережитое как некую неслучайную последовательность событий, внутренних или внешних, устремленных от начала к… Правильно! Вот тут и обнаруживается большое затруднение, которое, если его осмыслить, делает, на мой взгляд, невозможным подобный рассказ - о себе. Жизненный путь может восприниматься как отрезок только внешним наблюдателем, сам же путник ничего не знает о «месте назначения», а оказавшись в нем, то есть «в конце», уходит из той реальности, где возможны такие вот геометрические аллюзии. Иными словами, получается, ты либо существуешь в движении, либо тебя уже нет и ты ничего не знаешь о своей собственной траектории. И уж точно невозможно осмыслить часть своей жизни вне целого, видеть которое – круг замкнулся – тебе не дано.
Как тут быть? Я думаю, стоит сменить ракурс. Это видение, которое я считаю единственно возможным, похоже на взгляд в глубь колодца – взгляд на дно, взгляд, упирающийся в основание, фундамент, на котором стоит убывающий столб твоих жизненных сил – отмеренного тебе времени. Возникает парадоксальная и в то же время предельно честная вещь: чем дальше мы от момента наполнения колодца, тем меньше нас отделяет от этого истока и в то же время тем сложнее нам его рассмотреть, если колодец особенно глубок. И тем не менее, да. Колодец. Глядя вглубь, я вижу самое достоверное: не себя в истоке, а свой исток. Это то, что изменить невозможно, как бы не менял «меня» жизненный опыт. Об этом, наверное, единственно и имеет смысл рассказывать, дабы не впадать в лукавство, занимая позу автобиографа, пока ты еще жив и надеешься жить.
Дно – это предел, в который неизбежно упирается взгляд, если ты смотришь вглубь. Все остальное – неопределенность.
То, к чему вновь и вновь возвращается душа, и есть наша судьба. Существует представление, что человек приходит в мир со знанием всего наперед, по крайней мере с интуитивным чувством направления, в котором ему необходимо следовать. Но возникает и такая мысль: а почему бы тогда не допустить, что судьбой человека может быть и жестокий конфликт между его волей к самоосуществлению и теми ландшафтами, среди которых ему приходится продвигатья? Подобное допущение исполнено безысходности, и потому мне ближе иное: мы торим тропу и при этом, как от следа на воде, от нее ничего не остается. Нет ландшафтов. Это только «Я» со своим грузом или, наоборот, налегке. (По этой же причине невозможно никого ничему научить.) Однако и такая картина заставляет огорченно вздохнуть: неужели же нет ничего, совсем ничего, к чему, как нам хотелось бы, можно привязаться и сделать хоть немного более устойчивым свое существование? А как? Если «Я» – это тоже условность. То, что обозначает «Я», не что-то, оформленная вещь, а поток, нечто динамическое.
Как можно привязать к какому-нибудь колышку, вбитому в реальность для ее исчисления, – устремленность, поток?
Потому я смотрю на дно…
И вижу дождливый день. Дом в частном секторе (это – я знаю – Полтава). Совсем небольшой двор, которого не хватает для прогулок даже ребенку, а он все гуляет, несмотря на отвратительную погоду. Это ведь удивительное свойство детства – гулять в любое время года с равной любовью к этому делу, и желание выйти на улицу настойчивее именно тогда, когда есть возможность набрать в обувь воды и восхищенно хлюпать ею на каждом шагу, а потом выслушивать недовольное бурчание купивших тебе сапоги, лучшие из возможных, – со шнурками… Но ты все равно умудряешься промочить ноги, даже тогда, когда это физически невозможно. Как восхитительно капает с носа вода, когда ты под ливнем! Особенно если во дворе бродит хотя бы пара таких же – твоих сообщников, которых тоже непонятно как и почему отпустили под дождь: детские зонты для того и существуют, чтобы их брать с собой просто так…
А все сидят дома…
Но тогда это был маленький дворик, в которым не получалось луж, так как вода уходила в мягкую плодородную землю: большую часть двора занимал полисадник. Майская зелень. Она каждый год в моей жизни – из того дня. На другой стороне – чужие. Но к ним тоже можно пройти, хотя вроде как и не надо. Это как будто не нравится не соседям, а нам... И тем не менее ты там. Единственный раз в жизни возле той огромной железной бочки, где-то метром в радиусе, не то сидишь, не то стоишь, а она доходит тебе почти до подбородка. Она полная, дождь – перестал. И на поверхности воды, наполнившей бочку, плавают лебеди. Слетевшиеся с куста жасмина. Аромат валит с ног. Цветов и влажности. Очень холодно для мая. И не оторваться. Ребенок как зачарованный смотрит на лебединое озеро и закачаневшими пальчиками подталкивает к танцу цветки жасмина. Ничего более восхитительного он, кажется, не видел. Белые благоухающие цветы на черной воде. Зачарованное безмолвие.
И хочется всмотреться. Увидеть дно – лебеди плывут над бездной, качающейся в расширенных зрачках фантазерки.
Смешно признаться. Это самое упоительное из мгновений моей жизни. Балерины в белоснежных пачках. Лебеди. Куст жасмина. А я – капелька, редко срывающаяся с куста или растущих рядом акаций…
Ярчайший всплеск самосознания в ощущении, тогда смутном, а теперь отчетливом, чего-то пронзительно прекрасного, благодатного, уникального. Теперь отчетливом – потому что похожие вещи сбывались и потом, и душа с опытом научилась понимать саму себя и называть переживаемое на здешнем языке.
Вот то, что остается неизменным от случая к случаю, когда я размышляю обо всем, что было. То, что единственно имеет смысл выговаривать. То, что невыразимо, и в попытке выражения превращается в миф.
То, что на донышке.
Август, 2011


 Оставить отзыв
Оставить отзыв